Главная тема 1-ой части 5 фортепианной сонаты Бетховена
Однажды (это было около 15 лет назад) один замечательный, а ныне широко-известный пианист, спросил меня: «Не кажется ли мне, что Бетховен ошибся, написав f в 22-м такте, после того, как в 21-м написал ff ». С его точки зрения было бы логично поменять их местами. Я спросил его: что заставляет его так считать? И конечно, в ответ получил самый веский аргумент: «Я так чувствую». Что я мог сделать? Кратких ответов у меня не было. Заставить порывисто-эмоциональною художника выслушивать лекции no анализу формы - дело безнадежное... Я ответил кратко и в его духе: «Я так не чувствую...» Я не имел в виду ничего дурного, но он не на шутку обиделся...
Я вспоминаю эту историю, конечно же, не для того, чтобы сводить старые счеты, со своим другом, а для того, чтобы с разбегу попытаться сформулировать проблему, практическое значение которой будет возрастать по мере продвижении современной музыки от ее сегодняшнего состояния к тому дню, когда исторические связи будут восстановлены, и в общественном сознании утвердятся классические ценности. Путь к этому лежит через осознание достижений Шёнберга как композитора, теоретика и педагога. (Тот факт, что сегодня достижения Шёнберга трудно отрицать, еще, само собой разумеется, не говорит о том, что они освоены.)
Наиболее очевидны результаты его педагогической деятельности. Но выделить его композиторский гений из монотонной разноголосицы музыки XX века - задача куда более сложная. Что же касается Шёнберга-теоретика, то оказалось, что, с одной стороны, это направление - неотделимое от деятельности композитора и педагога - совершенно невозможно оценить по достоинству вне непосредственного контакта с ним самим или немногими его учениками; с другой стороны, сам Шёнберг изначально отказался от титула теоретика.
И здесь уместно процитировать Ф. Гершковича: «Отмежевываясь от теоретиков оговоркой, что его идеи представляют собой не теорию, а систему изложения музыкальных явлений, гениальный Шёнберг не давал себе отчета, насколько эта отговорка ставила его (правда, не в ущерб его гениальности) в положение Журдена, не знавшего, что он говорит - в данном случае: подлинно теоретической - прозой. Правомерно думать, что великие мастера вроде Баха, Бетховена или Вагнера были на деле столь же великими теоретиками, как и композиторами».
Несомненно, что Шёнберг неделим и равновелик в своих трёх ипостасях, каждая из которых взаимоопределяет друг друга. И если Гершкович в свойственной ему блистательно парадоксальной манере дезавуирует Шёнберга, поднимая значение термина «теоретик», то сам Шёнберг вполне сознаёт все преимущества статуса практика, дающего возможность вывести теоретика из конкурентных отношений с собой той области, в которой - по его выражению - господствует закон, имя которого - озарение. Трагический парадокс нашего времени состоит в том, что шёнберговская, в высшей степени практическая теория находится в явном противоречии с сегодняшней педагогической практикой. Педагог сегодня, в лучшем случае, сможет оказать помощь ученику в разрешении той или иной проблемы, хотя дело-то как раз состоит в том, чтобы подвести молодого музыканта к самостоятельной ее постановке.
***
Если в области гармонии Шёнберг с исчерпывающей полнотой демонстрирует все богатство тональной системы, то а области формы он поступает совсем по-иному - все разнообразие музыкальной формы он сводит к нескольким элементарным понятиям: три типа формы темы, четыре вида формы части и немногое другое. В работах великих мастеров мы можем встретить эти формы в их чистом виде (Шёнберг использует понятие «школьная форма») разве что в порядке исключения.
В отличие от теоретика, возможности которого ограничены попыткой классификации, Шёнберг идет совершенно другим путем: подобно геометру, создавшему «абстракции, которые часто значительно отличаются от реальности»* (понятия точки, прямой, плоскости, физическом мире не существующие), Шёнберг создает абстрактные понятия «школьных форм». Неудачи теоретиков, как в области анализа, так и в попытках построения теории формы, объясняются самим их теоретическим подходом: классифицировать то, что отнюдь не являет элементарным! Классификация химических элементов удалась Менделееву именно потому, что он сравнивал вес веществ на их химически элементарном уровне - на уровне атома. Что было бы, если бы он исходил, скажем, из молекул?!
Поэтому шёнберговские «школьные формы» играют в его системе изложения роль, далеко выходящую за рамки педагогической. Они необходимы ему - мы не можем не согласиться с Гершковичем - как теоретику. И дело не только в том, что любое наше определение элементов музыкальной формы (без оговорки, что оно имеет строго определенную область применения - школьные формы) сразу закроет композитору дорогу в будущее, лишит его перспективы (или - скорее всего - будет опровергнуто его же практикой). Понимание «физической реальности», этой органической («биохимической») природы сочинений великих мастеров, останется недоступным для тех, кто не осознал «неорганическую химию» шёнберговских школьных форм. Искусство анализа, в высшей степени присущее Новой венской школе, зиждится на понимании того, что отличие, скажем, бетховенского периода, фразы и т.д. от их школьного прототипа как раз и представляет собой «творческую проблему - осознанную или нет,- решением которой и является развившееся из згой темы произведение» (Ф.Гершкович).
***
Совершенно ясно, что, определив форму главной темы первой части Пятой сонаты как фразу с заключительными тактами и повторенным развитием, мы тем самым, прежде всего, указали на принадлежность данного феномена к определенному множеству явлений, его, так сказать, этимологию.
Проследим за этим на нескольких примерах: первые шестнадцать тактов Багатели №2 ор.ЗЗ представляют собой редчайший образец «школьной» фразы у Бетховен* (4+4 т.- мотив и его повторение и 2+2. 1+1+1 т.- развитие, приводящее к ликвидации в последнем такте); функция мотива, как строительного материала, яснее видна в следующей схеме:
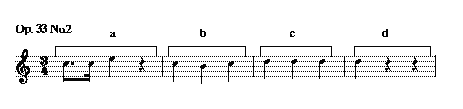
Для фразы свойственно, при определенных условиях, присоединять к себе повторенное развитие (главная тема I ч. Ш фортепианной сонаты: мотив - и его повторение (1-4 тт.), развитие (5-8 тт.) и повторение развития (J9-I3 тт.). Аналогичный пример - главная тема 1 ч. скрипичной сонаты ор.23;
главная тема 3 ч. VIII фортепианной сонаты - фраза (1-8 тт.) с повторенным развитием (9-12 тт.) и заключительными тактами (12-17 тт.).
Таким образом, цепочка примеров, построенная мной по принципу от простого к сложному, привела нас к месту, занимаемому в данной иерархии главной темой 1 я. V сонаты, я которой Бетховен, так сказать, «в порядке усложнения эксперимента», проводит заключительные такты (17-22) непосредственно вслед за фразой (1-16 тт.) и завершает тему повторением развития (23-30 тт.).
Говоря о своеобразии данной темы, необходимо отметить бросающуюся в глаза особенность: повторенное развитие осуществлено той частью мотива, которая ранее (в 9-16 тт.), в результате дробления оказалась отброшенной. Чтобы ответить на вопрос о причинах возникновения такого явления, мы должны глубоко проанализировать конструкцию самого мотива, определить принципиальное его отличие относительно «школьной формы» (см. Багатель ор.ЗЗ №2), а также родственных по этимологическому ряду построений.
Если в приведенных для сравнения примерах мотив всегда обладает отчетливыми и однозначными, отмеченными паузой или ясной цезурой границами, то в анализируемой нами теме мотив таким качеством не располагает. Он не только не отделен от своего повторения паузой, но, напротив, сливается с ним (в соответствии с этим подобным образом ведут себя и другие элементы фразы), создавая общую для них обоих четверть.

В самом деле, образовавшийся в результате дробления или, в тематическом смысле, сжатия, двутакт (9-10 тт.) не содержит той последней сильной доли, которую я рассматривал как общую для мотива и его повторения! (?..)
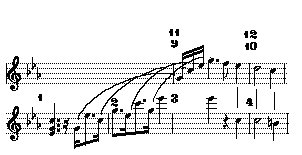
И тем не менее я готов утверждать, что она хотя и а скрытом виде, присутствует. Точнее, присутствует родившийся благодаря этой общей четверти принцип наложения, продолжая работать как на мотивном, так и тематическом уровнях. Что и приводит на следующем этапе дробления к смешению последних трех из четырех однотактов на четверть влево.
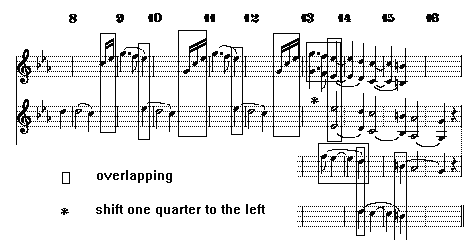
Таким образом, мы обнаружили основное структурное противоречие: с одной стороны, развитие основано на трактовке мотива, не допускающей существование наложения; с другой - оно (развитие) активно использует эту принципиальную для данной темы особенность. Или - то же самое другими словами - развитие, эксплуатирующее принцип наложения, осуществлено на основе мотива, не предполагающего такую возможность.
Логично было бы предположить, что разрешить это противоречие призвано повторенное развитие. Но не будем торопиться с выводами. Действительно, ни один из элементов структуры повторенного развития не связан со своим соседом по принципу наложения, и остается только восхищаться непогрешимостью бетховенского чувства формы, эквивалентного его героическому чувству долга, когда обнаруживаешь, что, благодаря отсутствию наложения, последние три из четырех однотактов опять оказались смещенными на одну четверть, но уже вправо.
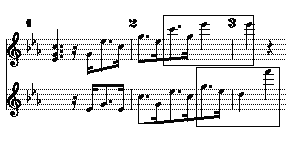

![]()
![]() А теперь поставим задачу реконструировать
мотив, лежащий в основе повторенного развития. Другими словами,
зададимся вопросом:
половиной какого четырехтакта являются двутакты 23-24 и 25-26?
А теперь поставим задачу реконструировать
мотив, лежащий в основе повторенного развития. Другими словами,
зададимся вопросом:
половиной какого четырехтакта являются двутакты 23-24 и 25-26?
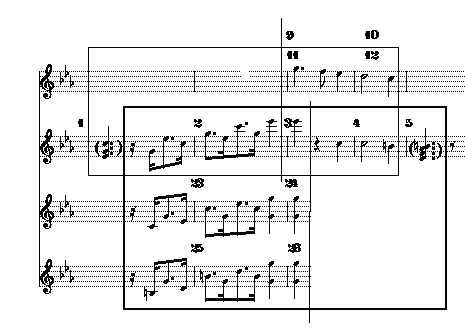

![]()
![]()
![]()
![]() Как видно из примера, двутакты 23-24 и 25-26 появились в
результате дробления по линии, не совпадающей с той, по которой мотив был
«разрезан» для получения двутакта 9-10 (?..). Это значит, что Бетховен не только использовал в повторенном
развитии отброшенную ранее часть
мотива (о чем уже было сказано), но он при этом еще и совершенно по-иному определяет границы мотива и «перенумеровывает»
такты, «вынося», так сказать, «за скобки» - на этот раз - первую долю 1-го
такта.
Как видно из примера, двутакты 23-24 и 25-26 появились в
результате дробления по линии, не совпадающей с той, по которой мотив был
«разрезан» для получения двутакта 9-10 (?..). Это значит, что Бетховен не только использовал в повторенном
развитии отброшенную ранее часть
мотива (о чем уже было сказано), но он при этом еще и совершенно по-иному определяет границы мотива и «перенумеровывает»
такты, «вынося», так сказать, «за скобки» - на этот раз - первую долю 1-го
такта.
Из сказанного следует, что, повторяя развитие, Бетховен отнюдь не разрешает
то, что я назвал основным структурным противоречием![]() , а лишь «перефразирует» его, выворачивает наизнанку: в повторенном развитии Бетховен приходит к
абсолютной, не допускающей
наложения ясности и однозначности; но при этом осуществляет его мотивом, границы которого захватывают
первую долю 5-го такта, благодаря
которой, собственно, и появилось в данной теме наложение в качестве структурного принципа.
, а лишь «перефразирует» его, выворачивает наизнанку: в повторенном развитии Бетховен приходит к
абсолютной, не допускающей
наложения ясности и однозначности; но при этом осуществляет его мотивом, границы которого захватывают
первую долю 5-го такта, благодаря
которой, собственно, и появилось в данной теме наложение в качестве структурного принципа.
Итак, в главной теме первой части Пятой сонаты мы сталкиваемся с феноменом (не единственным) двояко интерпретируемого мотива. Основываясь на одной версии, Бетховен формирует развитие, на другой - его повторение, при том, что, как в первом, так и во втором случае, противоположная версия незримо присутствует. Выражаясь, притчеобразно, я позволю себе сформулировать эту же мысль следующим образом: два профессора по фортепиано, работая нал фразировкой, приходят к утверждению различных версий мотива, и на вопрос: кто прав, обращенный к автору, как к высшей инстанции, Бетховен отвечает: правы оба. Оба не правы, потому что каждый из них отрицает возможность существования другой версии. Оба правы, потому что ни вопрос: то или другое, Бетховен отвечает: и то, и другое. Обе версии у Бетховена сосуществуют!
Вероятно, показанное мной структурное противоречие можно было бы назвать диалектическим. Но, конечно, не в том смысле, как это употребляется вульгарным музыковедением, а потому, что природа, идеальным слушателем и инструментом которой был Бетховен, богата противоречиями. Еще легче применительно к данной теме употребить выражение «нечеловеческая музыка», в том смысле, что человечество - в отличие от Бетховена - склонно к упрощениям, в то время как в истинном искусстве, природе и обществе - как говорил уже другой политик, в других обстоятельствах и по другому поводу - «простых решений не бывает».
P.S.
Ответ на вопрос моего друга (см. начало) кажется мне излишним. Читатель, уверен, уже ответил на него самостоятельно. И все же дли тех, кто не сделал этого,- еще несколько слов.
Первая доля 1-го и 22-го тактов один - и тот же аккорд. Но с точки зрения формы, они совершенно не тождественны. В 1-м такте этим аккордом начинается мотив, в 22-м им заканчивается предыдущий раздел темы (заключительные такты), заканчивается и только...
Следующий двутакт начнется с затакта к 23-му такту, в противном случае Бетховен действительно должен был бы поставить в 22-м такте фортиссимо (или не ставить ничего).
Но Бетховен написал форте, помогая (помог, кому смог) понять, что наложения здесь нет и возврата в повторенном развитии к прежней ситуации быть не может. Если хотите, именно так Бетховен через структуру выражает свой пафос. В этом смысле и нужно понимать простые и великие слова Ф. Гершковича: «Содержание музыки - это ее форма».